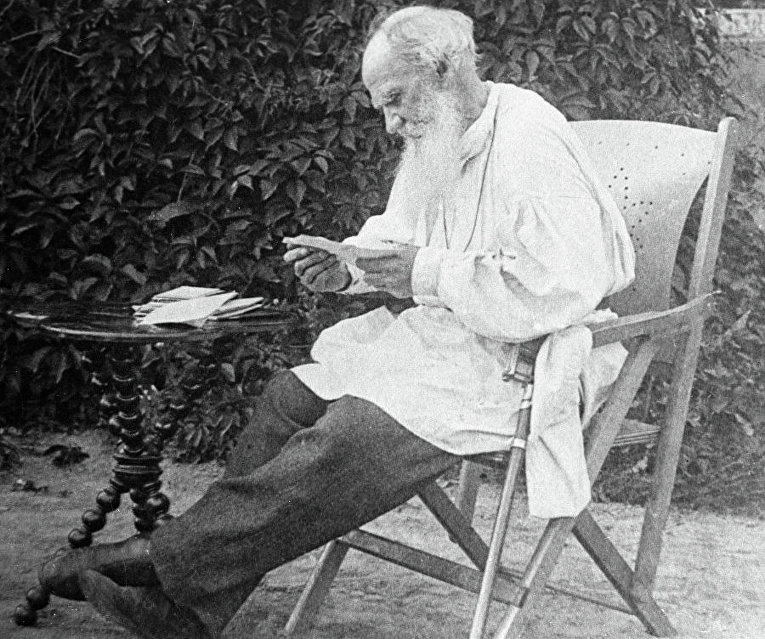Великий русский писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой два с половиной года обучался на юридическом факультете Казанского университета. Однажды ему предложили защищать писаря, приговоренного к смертной казни.
Жуткое по армейским меркам Российской империи событие произошло в июне 1855 года в расквартированном недалеко Ясной Поляны Московском пехотном полку. Ротный писарь Василий Шабунин ударил по лицу своего командира капитана Болеслава Яцевича. Писаря схватили, после дознания дело ушло к царю, ибо это был второй за короткое время случай рукоприкладства со стороны нижнего чина в отношении офицера. Император Александр II, вероятно опасаясь, что армия «разболталась», приказал судить солдата по законам военного времени, дабы другим было неповадно.
Личность Шабунина достойна краткого рассказа. Армейскую лямку тянул он уже 12-й год, но дисциплина хромала. Был дезертиром, исправился. Но получив звание унтер-офицера, начал серьезно злоупотреблять алкоголем, выпивая, по некоторым данным, до 2,5 литра крепкого зелья. За регулярное пьянство его разжаловали в рядовые, затем наказали за кражу у сослуживцев. Стал писарем, но с алкоголем не завязал. А капитан Ясевич, поляк и лютеранин, отличался строгим отношением к порядку, много раз заставлял писаря переделывать документы и вообще старался поддерживать в солдатах уставную дисциплину. Шабунин за это его возненавидел. В летний день, увидев писаря пьяным, капитан приказал посадить его в карцер и высечь. На что рядовой со словами «За что же меня в карцер? Вот я тебе дам!» разбил Ясевичу лицо в кровь.
Трибунал в военное время предполагал самое строгое наказание. Один из офицеров полка, назначенный членом суда, был знаком с супругой графа Толстого и обратился к нему с просьбой, чтобы известный писатель стал адвокатом подсудимого. Интересно, что правила военно-полевых судов Российской империи в то время позволяли подсудимому избрать себе защитника. Лев Толстой законченного юридического образования не получил, но все же имел два с половиной года обучения на юридическом факультете Казанского университета. Он согласился защищать Шабунина.
Спустя почти полвека после суда Толстой описал свое видение этого дела: «Помню, что, приехав в деревню Озерки, где содержался подсудимый (не помню хорошенько, было ли это в особом помещении, или в том самом, в котором и совершился поступок), и войдя в кирпичную низкую избу, я был встречен маленьким скуластым, скорее толстым, чем худым, это очень редко в солдате, человеком с самым простым, непеременяющимся выражением лица. Не помню, с кем я был, кажется, что с Колокольцовым. Когда мы вошли, он встал по-солдатски. Я объяснил ему, что хочу быть его защитником, и просил рассказать, как было дело. Он от себя мало говорил и только на мои вопросы неохотно, по-солдатски отвечал: «так точно». Смысл его ответов был тот, что ему очень скучно было и что ротный был требователен к нему. «Уж очень он на меня налегал», сказал он. Как я понял тогда причину его поступка, она была в том, что ротный командир его, человек всегда внешне спокойный, в продолжение нескольких месяцев своим тихим, ровным голосом, требующим беспрекословного повиновения и повторения тех работ, которые писарь считал правильно исполненными, довел его до высшей степени раздражения.
Сущность дела, как я понял его тогда, была в том, что, кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжелые отношения человека к человеку: отношения взаимной ненависти. Ротный командир, как это часто бывает, испытывал антипатию к подсудимому, усиленную еще догадкой о ненависти к себе этого человека за то, что офицер был поляк, ненавидел своего подчиненного и, пользуясь своим положением, находил удовольствие быть всегда недовольным всем, что бы ни делал писарь, и заставлял его переделывать по нескольку раз то, что писарь считал безукоризненно хорошо сделанным. Писарь же, со своей стороны, ненавидел ротного и за то, что он поляк, и за то, что он оскорблял его, не признавая за ним знания его писарского дела, и, главное, за его спокойствие и за неприступность его положения. И ненависть эта, не находя себе исхода, все больше и больше с каждым новым упреком разгоралась».
Свое выступление на суде в качестве адвоката писатель вспоминает в самых уничижительных выражениях: «Привели подсудимого. После не помню каких-то формальностей я прочел свою речь, которую мне не скажу странно, но просто стыдно читать теперь. Судьи с очевидно скрываемой только приличием скукой слушали все те пошлости, которые я говорил, ссылаясь на такие-то и такие-то статьи такого-то тома, и когда все было выслушано, ушли совещаться».
Интересно, что некоторые современные исследователи отмечают, что Толстой на самом деле озвучил вполне грамотные с юридической точки зрения аргументы в пользу подсудимого. Он ссылался на те статьи воинского Устава, что предполагают смягчение наказания и даже оправдание Шабунина. Как впоследствии выяснилось, тройка судей разделилась, двое проголосовали за смертную казнь, один – против. Приговор оглашен – смертная казнь, но появилась реальная возможность для обжалования приговора. И тут граф совершает роковую ошибку: «Тотчас же после суда я написал, как это У вас и написано, письмо близкой мне и близкой ко двору фрейлине Александре Андреевне Толстой, прося ее ходатайствовать перед государем – государем тогда был Александр II – о помиловании Шабунина. Я написал, но по рассеянности не написал имени полка, в котором происходило дело. Толстая обратилась к военному министру Милютину, но он сказал, что нельзя просить государя, не указав, какого полка был подсудимый. Она написала это мне, я поторопился ответить, но полковое начальство поторопилось, и когда не было уже препятствий для подачи прошения государю, казнь уже была совершена».
Писаря расстреляли в августе перед строем. Потрясение от этого трагического события, когда жизнь человека зависела от него, но спасти ее не удалось, Лев Толстой пронес через всю жизнь. Как адвокату ему не удалось спасти человека, но как писатель он спас сотни миллионов людей во всем мире от моральной смерти, которая гораздо хуже физической.
«Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит и тело и душу... Всё это я понял гораздо позже, но смутно чувствовал уже тогда, когда так глупо и постыдно защищал этого несчастного солдата. От этого-то я и сказал, что случай этот имел на меня очень сильное и важное для моей жизни влияние. На этом случае я первый раз почувствовал, первое – то, что каждое насилие для своего исполнения предполагает убийство или угрозу его и что поэтому всякое насилие неизбежно связано с убийством. Второе-то, что государственное устройство, немыслимое без убийств, несовместимо с христианством. Теперь это для меня ясно, тогда же это было только смутное сознание той неправды, среди которой шла моя жизнь».
Андрей Голик
*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора