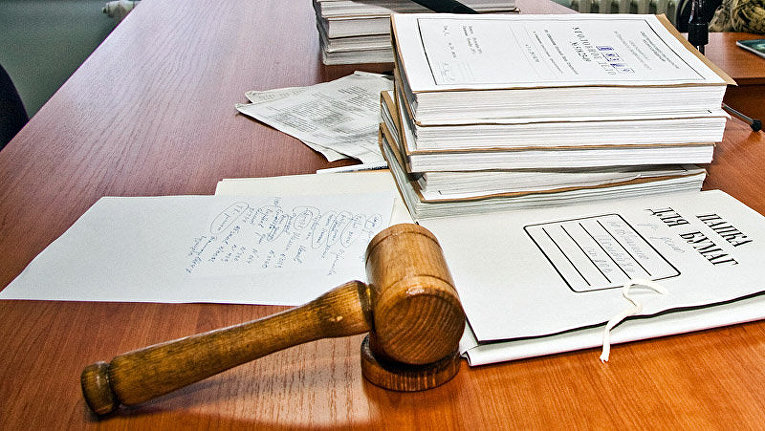РАПСИ в этом году начало серию публикаций о наиболее громких судебных процессах в истории Российской империи. В каждой статье будет рассматриваться конкретное дело, цель — показать, как правовая система дореволюционной России сталкивалась с культурными, политическими и социальными вызовами, и как громкие процессы формировали общественное мнение и дальнейшую судебную практику. В данной статье речь пойдет о суде над убийцами девочки Сарры Беккер.
Дело об убийстве тринадцатилетней Сарры Беккер, совершённом 27 августа 1883 года в Санкт-Петербурге, вошло в историю российского правосудия как одно из наиболее сенсационных и противоречивых. В прессе того времени его нередко называли «страшной трагедией на Невском», а городские обыватели были шокированы тем, что столь жуткое преступление могло произойти на самой многолюдной улице столицы. Между тем само расследование отличалось запутанностью: в ходе следственных действий и судебных заседаний обвинение переходило от одного лица к другому, появлялись показания о «страшной кровавой тайне», и в итоге дело передавалось на новое рассмотрение.
В результате упорных судебных баталий и двух громких процессов присяжные вынесли оправдательный вердикт Ивану Мироновичу, хозяину ссудной конторы, а фигуры Михаила Безака и Екатерины Семёновой получили разные статусы: один оказался ссыльным, другую признали невменяемой и поместили в психиатрическую больницу. Впоследствии эта история нашла отражение в публицистике конца XIX века и даже была упомянута в рассказе А. П. Чехова «Психопаты». Многочисленные газетные репортёры, а также заметные юристы и присяжные поверенные (Н. П. Карабчевский, С. А. Андреевский, А. И. Урусов, А. М. Бобрищев-Пушкин) оставили свидетельства, которые позволяют реконструировать весь ход дела, опираясь на реальные источники и прямые цитаты современников.
Сарра Беккер была рождена в первом браке Ильи Беккера, человека небогатого, но старательного и добросовестного, работавшего приказчиком в ссудной конторе (проще говоря, ломбарде) предпринимателя Ивана Мироновича. Контора эта находилась по адресу Невский проспект, 57 и, по словам Мироновича, приносила ему «неплохой, хотя и не огромный доход». У Сарры к моменту трагедии было непростое положение: её отец женился вторым браком, и новая жена проживала в Сестрорецке. Беккер хотел перевезти туда и дочь, поэтому готовил документы и постепенно свозил вещи. В последние недели августа 1883 года возникла необходимость временно оставить Сарру ночевать в конторе. Известно, что до какого-то момента девочка ночевала там не одна: ей помогали дворники, живущие во дворе того же дома, но Сарра пожаловалась на то, что они «шумят, говорят непотребные слова и порой пристают», о чём она прямо сообщила хозяину. Миронович, по показаниям самого хозяина, «решил от их услуг отказаться, дабы не рисковать покоем и без того одинокой девочки». На Сарру, бывшую примерной и довольно спокойной, возлагали роль ночного сторожа, полагая, что ничего опасного в этом не таится.
Однако события 27–28 августа развивались по трагическому сценарию. Утром 28-го числа скорняк Лихачев и портниха Пальцева, которых Миронович накануне пригласил для получения заказов, пришли к конторе. Они обнаружили, что входная дверь приоткрыта и запирающей её Сарры нет на месте. Дворники, поднятые ими, вскоре нашли в самой дальней комнате страшную картину: труп Сарры Беккер, лежавший поперёк большого кресла с раздвинутыми ногами, при том, что верхняя часть одежды была в беспорядке. На лбу девочки красовалась большая рана над правой бровью, доходящая, по словам осмотревших её медиков, до кости, а в глубине горла торчал носовой платок. В правой руке Сарры, как зафиксировано в полицейском протоколе, был зажат клок волос. При дальнейшей проверке было найдено несколько разбросанных документов: просроченные квитанции на имя некого Грязнова, а также его вексель на 50 рублей. В карманах самой девочки лежали ключ от кассы и недоеденное яблоко. Хозяин конторы, Иван Миронович, когда приехал на место трагедии, заявил, что из кассы пропало 50 рублей наличными, а из витрины похищены вещи примерно на 400 рублей, причём иные, более дорогие предметы (в общей сложности на тысячу рублей и более) остались нетронутыми.
Поначалу следствие решило проверить возможную версию изнасилования, тем более что поза убитой и её состояние указывали на возможный половой мотив. Судебно-медицинские эксперты, среди которых был доктор Дубровин, провели осмотр тела Сарры и сделали заявление о «возможном насильственном посягательстве», но подтверждение этого оказалось неокончательным: говорить однозначно о завершённом изнасиловании нельзя было, хотя следы борьбы виднелись отчётливо. В то же время в газетах всплыли слухи о том, что сам Иван Миронович «проявлял к девочке нездоровый интерес». Свидетели под присягой намекали, что видели иногда странную ласковость, которую хозяин проявлял к Сарре. Поскольку хозяин ломбарда находился ближе всего к месту трагедии, имел доступ ко всем помещениям и, по мнению некоторых наблюдателей, мог утаить настоящую сумму пропавших денег, полиция заподозрила его в совершении преступления. Мироновича арестовали: как указывала «Санкт-Петербургская газета» (№ 190, 1883), «последовало задержание хозяина конторы по подозрению в насилии и убийстве девочки».
В течение месяца, пока Миронович находился под арестом, пресса раздувала всевозможные гипотезы о его поведении и прошлой жизни. «Новое время» писало: «Прошлое Ивана Мироновича не даёт повода к обвинению в жестокости, но, говорят, уж очень он был в последнее время внимателен к своей юной помощнице». Однако в конце сентября расследование сделало крутой поворот: в полицию явилась некая женщина, назвавшаяся Екатериной Семёновой, и заявила, что убийство Сарры Беккер совершила именно она, а Миронович напрасно сидит в тюрьме. Газеты в то время сообщали, что в управление полиции доставлена женщина сомнительного вида, но с признаками дворянского воспитания, утверждающая, что тяжкое преступление на её совести. Оказалось, что отец Семёновой некогда был дворянином, но осуждён за подлог векселей, а сама она сменила множество мест службы и в конце концов стала сожительницей Михаила Безака — человека с весьма сомнительной репутацией и, по данным нескольких журналистов, бывшего полицейского, уволенного «за неблагонадёжность». Свои доходы Семёнова добывала мелкими кражами, однако в какой-то момент ей, по её собственным показаниям, потребовался «крупный куш», чтобы упрочить положение и «привязать к себе любовника кровавой тайной». Якобы, гуляя по Невскому, она подметила девочку-сторожа, которая оставалась в ломбарде одна и согласилась, в обход официальных часов, принять в залог часы. Семёнова воспользовалась этим, попросила Сарру принести стакан воды, а сама, заранее приготовив тяжёлую гирю, нанесла девочке несколько ударов по голове. По её словам, Сарра ещё сопротивлялась, укусила её за палец, но Семёнова не отступила, оттащила жертву в комнату, утрамбовала в горло платок и окончательно задушила, налегая всем телом. После убийства она пыталась взломать витрину, но не сумела открыть замок и побоялась разбить стекло, чтобы не привлечь внимание. Тогда, по её признанию, отжав край крышки, она просунула внутрь руку и выудила оттуда какие-то предметы, достигаемые на ощупь. Схватив также 50 рублей из кассы, она бежала к Безаку в гостиницу, где и вручила ему часть добычи для «сбыта», а себе оставила лишь золотые дамские часики и 5 рублей.
На основании показаний Семёновой следствие немедля освободило Мироновича из-под стражи, не усмотрев более оснований держать его за решёткой. «Изумлённый арестант отпущен на волю, и сделалось объявление о розыске Михаила Безака», — писала пресса. Последнего вскоре схватили 6 октября того же года. Однако он, вопреки ожиданиям, заявил совершенно противоположное: что настоящим убийцей был как раз Миронович, которого, по его словам, Семёнова застала на месте преступления, и тот, дабы заставить её хранить молчание, якобы «задарил» её вещами из витрины, а она теперь, раскаявшись, всю вину взяла на себя. Отдельную путаницу внёс тот факт, что и сама Семёнова 25 января 1884 года внезапно отказалась от своих первоначальных признаний, сказав, что «не она убивала девочку, а сам хозяин ломбарда». Таким образом, в деле возникли три противоречивые версии: по одной преступником считался Миронович, по другой — Семёнова, а по третьей — эти двое могли действовать совместно или каким-то образом шантажировать друг друга. В результате власти предпочли не выпускать никого: Миронович опять был заключён под стражу, а Семёнова и Безак дожидались суда, обвинённые хотя бы в недонесении и укрывательстве похищенного, если их собственные признания или отрицания не могли служить прямым доказательством главного преступления.
Тогда наступил черёд судебного разбирательства в Санкт-Петербургском окружном суде. Разбирательство первой инстанции проходило с 27 ноября по 3 декабря 1884 года. На скамье подсудимых находились трое: Иван Миронович, обвиняемый в покушении на изнасилование и убийстве Сарры Беккер; Екатерина Семёнова, обвиняемая в недонесении и укрывательстве; Михаил Безак, обвиняемый в подстрекательстве и сбыте краденого. В прессе вспоминалось, что процесс вызвал «необычайный наплыв публики», ведь убийство ребёнка на почве подозрительного влечения или корысти не могло не потрясти горожан, и к тому же дело обещало сенсацию: улики противоречили друг другу, а сами фигуранты то признавались, то отказывались от показаний. Адвокатом Мироновича уже в тот момент выступал известный присяжный поверенный Н. П. Карабчевский, ораторскую школу которого высоко ценили коллеги. Гражданский истец, представлявший интересы отца убитой девочки, Ильи Беккера, — это ещё один знаменитый русский адвокат, князь А. И. Урусов, чьи выступления отличались «сильным эмоциональным зарядом». Обвинение в лице государственного обвинителя А. М. Бобрищева-Пушкина заняло жёсткую позицию и требовало сурового наказания виновному.
Судьи заслушивали множество свидетелей. Некоторые указывали на «странное» поведение Мироновича по отношению к Сарре, хотя конкретных фактов насилия упомянуто не было. В частности, один из бывших дворников говорил: «Бывало, заметишь, что хозяин говорит с барышней Саррой больше, чем полагается, а может, и не было там ничего…». Другие свидетели, наоборот, утверждали, что никаких двусмысленных отношений не замечали. Сама Семёнова поначалу стояла на своём признании, но путалась, отвечая на вопросы суда о деталях: например, почему она выбрала именно ночь на 27 августа, как именно прятала гирьку, почему не разбила стекло витрины, если преступление изначально планировалось как крупное ограбление. Безак же продолжал настаивать, что лишь случайно оказался замешан в историю, приняв некоторые вещи от Семёновой, но настоящим убийцей должен считаться Миронович, ведь якобы именно он «надругался над девочкой», а потом, будучи застигнут, пытался откупиться. В обстановке такого разнобоя в показаниях суд присяжных вынес приговор (3 декабря 1884 года), который многих удивил: Мироновича признали виновным в убийстве с покушением на изнасилование и приговорили к семи годам каторжных работ. Безак получил ссылку в Сибирь (как укрыватель и лицо, не сообщившее о преступлении), а Семёнову сочли невменяемой. Её оправдали по уголовной статье, но отправили в психиатрическую больницу: медики, в том числе д-р Лобачев, пришли к выводу, что у Семёновой «имеются признаки истерического помрачения». Несколько газет писали, что во время слушаний она вела себя «странно, переходя от слёз к смеху», что косвенно могло подтверждать диагноз.
Однако этот приговор не поставил точку в деле, потому что прокурор усмотрел процессуальные нарушения и внёс формальный протест. Заодно защита Мироновича подала жалобу, указывая, что судебное следствие было неполным и что все доказательства против него «строятся только на слухах и нестыковках в показаниях лиц, сами себя изобличающих в лжесвидетельстве». Князь Урусов с этим отчасти соглашался, хотя защищал позицию отца Сарры, требуя «настоящего возмездия за смерть ребёнка» (цитируется из его «Записок»; см. «Речи и воспоминания А. И. Урусова», изд. 1900 г.). В итоге высшие судебные инстанции постановили: дело надо рассмотреть вновь, причём разделить производство — отдельно судить Мироновича, отдельно разбираться с обвинениями против Семёновой и Безака. В прессе началась бурная полемика, публика разделилась на два лагеря: одни говорили о вине хозяина, другие считали несчастного предпринимателя жертвой клеветы со стороны проходимки и её пособников. «Санкт-Петербургские ведомости»: «В этом деле отзывается широкий социальный резонанс, потому что девочка-сирота погибла, защищая имущество, а также честь, возможно, свою собственную».
При повторном рассмотрении в сентябре–октябре 1885 года за защиту Мироновича взялись уже два знаменитых присяжных поверенных: Н. П. Карабчевский и С. А. Андреевский. Обвинение вновь вёл Бобрищев-Пушкин, а гражданский иск от имени Беккера представлял снова Урусов, зал был переполнен не меньше, чем на первом процессе: любопытство публики к злоключениям Мироновича, Семёновой и Безака не угасло. Газеты публиковали ежедневные отчёты, описывая тонкости прений сторон: Карабчевский акцентировал внимание на непоследовательности Семёновой, которая признавалась в убийстве, потом отказывалась от признания, а потом снова говорила путаные вещи. Андреевский, как опытный мастер судебной речи, пытался доказать несостоятельность обвинения в покушении на изнасилование. В то же время Семёнова, которую снова вызвали как свидетеля, заявляла, что «не всё помнит» и что «не может разобраться, когда говорила правду, а когда её пугали и заставляли оговорить себя или других». Доктор, осматривавший её, подтверждал, что у женщины наблюдаются истерические приступы и, возможно, серьёзное расстройство психики. Безак, продолжавший отрицать своё участие в убийстве, однако не скрывал, что брал часть краденого; утверждал, что поступил так «по страху», потому что Миронович или Семёнова могли ему угрожать.
В результате этого затяжного нового процесса, длившегося с 23 сентября по 2 октября 1885 года, присяжные вынесли оправдательный вердикт Мироновичу, фактически признав, что доказательств его вины нет, а все улики слишком противоречивы. По итогам раздельного рассмотрения дела Семёновой и Безака суд постановил отправить Безака в ссылку, признав его виновным в недонесении и в сбыте краденых вещей, а Семёнову окончательно признал невменяемой. Медики, приглашённые на экспертизу, пришли к выводу, что её психическое состояние не позволяет считать её полностью ответственной: у неё отмечались резкие перепады поведения, истерические припадки и смешение фантазии с реальностью. Её поместили в психиатрическую больницу, тем самым освободив от дальнейшего уголовного преследования, но фактически изолировав от общества на неопределённый срок.
Распространяясь о причинах столь долгой и путаной судебной тяжбы, многие публицисты указывали на колоссальную роль общественного мнения в городах Российской империи, которое оказывало давление на суд. Кроме того, подобная сенсация неизбежно спровоцировала повышенный интерес газет, и всякий новый поворот расследования описывался на страницах изданий репортёрами, вынуждая участников процесса то отказываться от прежних слов, то придумывать новые. Общественность же требовала «показательной кары» за чудовищное убийство беззащитного ребёнка, о чём постоянно напоминал князь Урусов, пытаясь защитить интересы отца Сарры. В своих «Речах и воспоминаниях» (1900) он подчёркивал: «Как юрист я искал справедливости, как человек — искал возмездия за гнусное преступление, но улики, увы, слишком расплывались, чтобы указать на истинного злодея вне сомнения».
Сам отец девочки, Илья Беккер, не раз давал комментарии в прессе: «Мне остается лишь скорбеть и казнить себя за то, что оставил ребёнка на ночь в конторе. Но как мог я заранее предположить такую зверскую расправу». Мать же, то есть вторая жена Беккера, была в тот момент уже на сносях и вообще не жила в Петербурге постоянно, что тоже породило в обществе вопросы: если в доме было несколько дворников, почему нельзя было обеспечить надёжную охрану? Но и на этот счёт в суде высказывались версии о несговорчивом характере дворников, о том, что девочка сама якобы просила не звать их, так как «боялась их нетрезвости и насмешек».
Позднее, когда шумиха вокруг убийства Сарры Беккер стихла, а само дело приобрело формально завершённый вид (оправдание Мироновича, ссылка Безака, признание Семёновой невменяемой), начались профессиональные обсуждения юристов о роли суда присяжных и влиянии сенсационной прессы. По поводу психического состояния Семёновой и её неожиданных «признаний» нередко упоминался известный в то время судья и деятель правовой сферы А. Ф. Кони, который уже прославился своей ролью в других резонансных делах. Хотя непосредственно в разборе убийства Сарры Беккер он, по сохранившимся свидетельствам, участия не принимал, в воспоминаниях он вскользь затрагивает подобные случаи, где обвиняемый сначала даёт признательные показания, потом от них отказывается, затем снова даёт иную версию. Кони указывал, что это «типичная картина при отсутствии надлежащих процессуальных гарантий и при увлечении полиции быстрой сенсацией». О самом процессе Сарры Беккер он упоминал: «Когда пресса соревнуется в обилии красочных подробностей, лица с неустойчивой психикой могут поначалу тянуть к себе внимание признаниями, позже же, углубившись в страх, отказываются от своих слов или меняют их до неузнаваемости».
Интерес к делу подогревался и появлением рассказа А. П. Чехова «Психопаты», опубликованного в 1885 году. Хотя в самом тексте рассказа нет прямого изложения событий убийства Сарры, там присутствует сцена обсуждения недавнего громкого процесса, явственно намекающая на эту трагедию. Литературоведы отмечают, что Чехов едко высмеивает массовое помешательство публики: люди приписывают происшествию небывалые детали, говорят о «сатанизме», о «ритуальных чертах», хотя, по сути, всё было, вероятно, банальнее и трагичнее. Именно благодаря перу Чехова и другим откликам в литературе, имя Сарры Беккер осталось в общественной памяти как символ детской беззащитности перед преступными планами взрослых.
В историческом контексте, по мнению некоторых исследователей того времени, пример дела Сарры Беккер показал, как общественный резонанс способен привести к «двойному» и даже «тройному» следствию, а неоднократные признания и отказы от них только запутывают картину. Люди вроде Екатерины Семёновой могли, с одной стороны, действительно совершить страшное преступление, а с другой — при определённых нарушениях психики искренне верить в свои то одни, то другие высказывания.
С точки зрения моральных уроков эпохи, убийство Сарры Беккер ещё раз высветило, как уязвимы могут быть дети в условиях городской жизни, когда взрослые, будь то родители или работодатели, не обеспечивают им должной защиты. Так или иначе, судебный итог вылился в оправдание Мироновича, который вернулся к прежней деятельности, хотя, как замечали современники, «его репутация уже не была столь безупречна в глазах общества». Михаил Безак отправился в ссылку и затерялся в дальних губерниях; о дальнейшей его судьбе точных известий нет. Екатерина Семёнова провела в психиатрической больнице немалый срок, по некоторым данным — свыше 10 лет, а затем была переведена в другую лечебницу подальше от столицы, поскольку считалась «опасной». В литературе начала XX века встречается упоминание о ней как о «женщине, внушавшей страх больничному персоналу своими периодами необузданной агрессии». При этом многие считают, что в силу помрачения ума она могла и не помнить всех подробностей совершённого.
В памяти же столичной публики дело Сарры Беккер долго не исчезало: фельетонисты и репортёры с сожалением сетовали на то, что ужасная гибель ребёнка так и не получила абсолютной правовой ясности. Тем не менее повторный суд присяжных стал примером для специалистов по уголовному праву того времени. Профессор А. Ф. Кони, анализируя практику суда присяжных, примерно в те же годы отмечал, что «дело о Сарре Беккер демонстрирует, насколько шаткими могут быть предположения, выдвинутые против человека, когда главная улика — это толки о его якобы страсти к девочке, а осязаемых доказательств преступления у него нет. В то же время признания другого лица могут быть запутаны её психологическими отклонениями и стремлением обелить своего любовника или отомстить ему». Кони использовал этот пример как очередное доказательство того, что в судах, особенно при большом общественном интересе, должен действовать выверенный механизм проверки каждого слова, каждого факта, чтобы не допустить повторения ошибок первого судебного решения.
Впоследствии упоминания об этом процессе проскакивали у исследователей пореформенной судебной системы. Оно фигурировало и как показатель «раскачки» общественного мнения, способного взять под прицел как реального, так и возможного «козла отпущения», и как иллюстрация к теме несовершенства судебных методов в отношении психически неуравновешенных преступников (Семёновой). Лишь к началу XX века дело о «наказании невиновного» (так иногда иронично обозначали первый приговор Мироновичу) стало уже исторической страницей, которую приводили наравне с другими резонансными казусами для демонстрации «растущей силы присяжного института».
Таким образом, история убийства Сарры Беккер — это сложный узел судебных перипетий, свидетельствующий о том, насколько непросто было отстоять правду среди противоречивых признаний и показаний. Участники и наблюдатели по-разному оценивали события: одни видели в Мироновиче циничного насильника, другие — жертву лжесвидетельства и истерических фантазий Семёновой; Безака одни считали заурядным жуликом, другие — главным подстрекателем; а сам Илья Беккер сетовал на свою роковую ошибку. Благодаря упорству адвокатов и второму присяжному составу хозяин ломбарда был освобождён от тяжкого обвинения, хотя тень скандала и ужаса долго лежала на его имени. Безак, признанный виновным в недонесении и, возможно, косвенно участвовавший в планировании, продолжил свой путь в ссылке. Семёнова же закончила в лечебнице, где, по утверждению медицинских отчётов, уже не могла ясно отдавать себе отчёт в том, что натворила.
Андрей Кирхин
*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
*Стилистика, орфография и пунктуация публикации сохранены