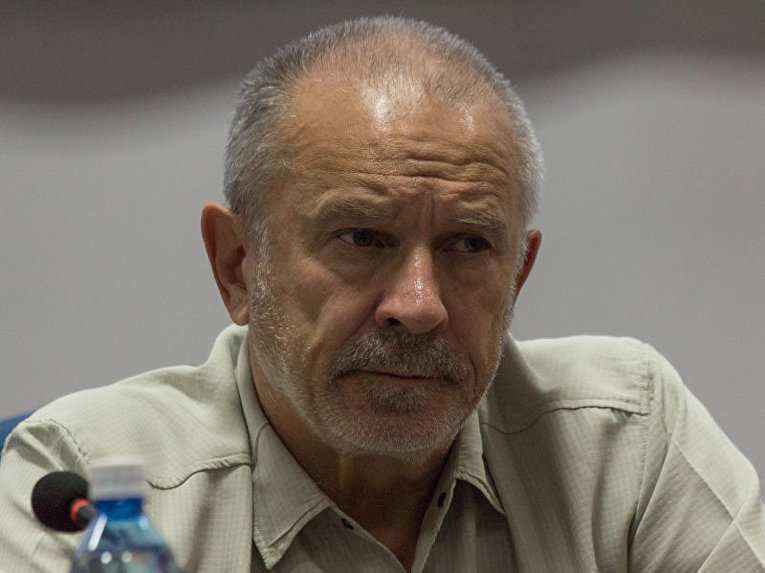Монополия в политике одной партии привела к ее монополии во всех сферах общественной жизни. Как это проявилось в экономике, рассказывает в сто двадцать четвертом материале своего тематического цикла юрист, кандидат исторических наук, депутат Государственной Думы первого созыва Александр Минжуренко.
Октябрьская революция оказалась самой радикальной сменой общественно-экономического строя в мировой истории государства и права. Основным теоретическим посылом было положение марксизма о том, что социализм – это социально-экономическая формация, основанная на обобществлении всех средств производства.
Но этот принцип был, фактически, единственным в теоретическом арсенале партии большевиков, приступившей к строительству социализма в России. А его реализация вызывала на практике огромное множество вопросов. Самым главным из них оказался: как управлять социалистической экономикой. Этого никто не знал.
Не имея детально разработанной теоретической модели, новая формация складывалась пошагово, отвечая на вызовы времени и следуя своеобразной логике. Исходной и определяющей позицией стала национализация земли и всех средств производства.
После того как земля и все предприятия перешли в собственность государства, естественно родилась идея централизации управления ими. Это логично: у одного хозяина должны были быть сосредоточены и все рычаги управления собственностью.
Для управления национализированными предприятиями и государственными финансами декретом ВЦИК и СНК России от 15 декабря 1917 г. был учрежден Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). Первым его председателем назначили В.В. Оболенского, закончившего юридический факультет Московского университета.
На старте работы ВСНХ было решено разбить всю экономику по отраслевому принципу. Соответственно в ВСНХ создали отделы по отраслям производства. Со второй половины 1918 года этот орган занимался руководством только промышленности. В нем были созданы главные управления по отраслям или «главки»: Главметалл, Главспичка, Главторф, Главгвоздь, Главнефть и т.п. – всего 52 главка. В период «военного коммунизма» (1918-1921 гг.) главки осуществляли жестко централизованное управление предприятиями, распределяя сырье, топливо и готовую продукцию.
В годы «нэпа» предприятия, объединенные в тресты и синдикаты, работали на принципах хозрасчета. С окончанием же нэпа элементы рыночной экономики сворачиваются.
С 1928 года на повестке дня встает политика форсированной индустриализации, которая предполагала возврат к строго централизованной системе управления промышленностью. Строившиеся новые гигантские предприятия требовали больших капиталовложений, а те, которые вводили в строй, очень долго не могли выйти на проектные мощности из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы.
Поэтому о хозрасчете в этих условиях не могло быть и речи; понятия «прибыль», «рентабельность» исчезают из оборота. Появляется категория «плановоу-быточные» предприятия». В этот список попадали все те нерентабельные заводы и фабрики, продукция которых была крайне необходима в целом народному хозяйству страны, поэтому о закрытии таких предприятий даже не ставился вопрос.
Все действия руководителей промышленных предприятий стали определяться исключительно центральными органами власти, которые ставили перед ними строго очерченные задачи, прежде всего по объемам производства. Возобладал принцип директивного планирования.
С 1923 года уже в рамках СССР стал действовать Госплан СССР – государственный орган, осуществлявший общесоюзное планирование развития народного хозяйства. Его роль и значение резко возросли с окончанием нэпа и переходом к строго централизованной плановой экономике. В России его подчиненным органом была Государственная плановая комиссия РСФСР.
Плановые задания, выработанные Госпланом, становились основным стержнем складывавшейся административной системы. С 1928 года на самом высшем уровне законодательной власти – на съездах Советов – стали приниматься пятилетние планы.
Таким образом, план стал не просто директивой центральных органов, а законом. Соответственно, за невыполнение плана могли привлекать руководителей предприятий к различным видам ответственности: от дисциплинарной до уголовной. Последнее применялось в 1930-е годы, когда директоров за невыполнение плана могли зачислить во «вредители» и даже расстрелять. Наказывались руководители и по партийной линии: им могли объявить выговор или даже исключить из партии, что означало полный крах служебной карьеры.
Вся произведенная продукция передавалась в распоряжение вышестоящих органов снабжения, которые направляли ее потребителям. Основные накопления предприятий переводились в госбюджет. В этих условиях обычные рычаги управления, такие как цены, зарплаты, стали носить формальный характер. Цены на товары устанавливались центром, а не потребителями, не рынком. Руководители и работники предприятий получали установленные центром зарплаты и мотивировались на выполнение плана премиями и повышениями в должности.
К недостаткам складывавшейся административно-командной системы следует отнести прежде всего то, что эффективно управлять всеми предприятиями и отраслями народного хозяйства в масштабе огромной страны было невозможно.
Крайне сложно оказалось запланировать объемы и ассортимент всех видов выпускаемой продукции и состыковать потребности предприятий в сырье, полуфабрикатах и комплектующих. На пике развития административно-командного управления экономикой Госплан оперировал более, чем 100 тыс. показателями.
В связи с этим в стране на все время существования этой системы появилось в обороте понятие «дефицита». Список дефицитных товаров был огромным и регулярно возрастал. Это было самым убедительным доказательством невозможности планировать действия всех предприятий из одного центра и обеспечивать их всем необходимым.
Другим недостатком плановой экономики стало явное торможение научно-технического прогресса на предприятиях. Пятилетние планы были излишне долговременными и нацеливали всех только на количество выпускаемой продукции, заведомо не учитывая возможности внедрения достижений науки и техники в производство в течение пятилетки. Отсюда почти исключалась возможность инициативных решений на местах: все решения по внедрению передовой техники и прогрессивных технологий принимались только центром.
Ну и, возможно, самым главным минусом сформировавшейся системы было то, что в ее рамках исключался самый основной стимул развития предприятий – конкуренция. Руководители производства были озабочены лишь выполнением плана. Крах предприятия им не грозил. Единый собственник средств производства – государство – не допускал состязательности и конкуренции, т.е. борьбы на выживание, между составными частями единого целого – «народного хозяйства» страны.
То, что в СССР возникла абсолютная монополия государства в экономике, может показаться странным, так как основатель и вождь партии большевиков В.И. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» еще в 1916 году пришел к выводу о том, что монополия в экономике ведет к ликвидации конкуренции и к застою.
Другими признаками и чертами административно-командной системы явились однопартийность и сращивание партийного и государственного аппаратов, партии и государства. В политической жизни также отсутствовала конкуренция и царила монополия одной партии. Важнейшие решения в СССР принимались исключительно на партийных форумах: съездах или конференциях, а также на пленумах ЦК и заседаниях Политбюро.
При этом, если депутаты советов все же проходили, пусть формально, но через выборы, то руководители партийных органов населением не избирались. Начался период тотальной монополизации всех форм управления. Партия жестко контролировала и направляла деятельность всех профессиональных, молодежных и других общественных организаций.
Продолжение читайте на сайте 15 апреля