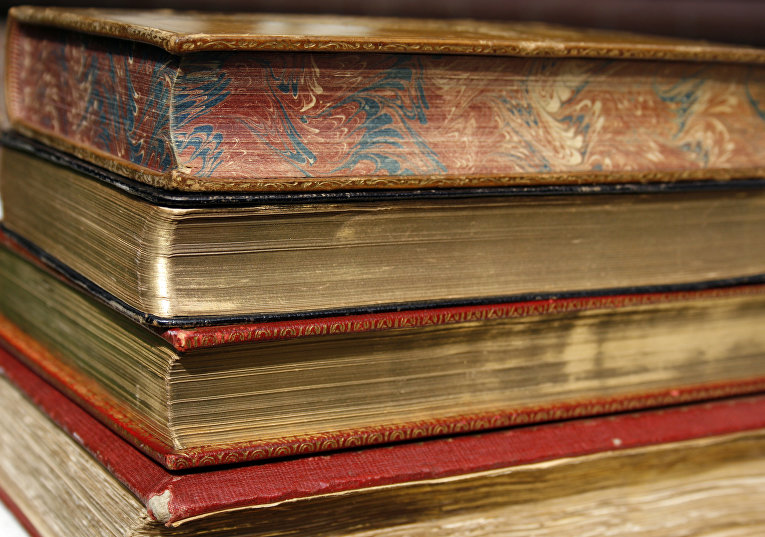В этом году РАПСИ начало серию публикаций о наиболее громких судебных процессах в истории Российской империи. В каждой статье будет рассматриваться конкретное дело, цель — показать, как правовая система дореволюционной России сталкивалась с культурными, политическими и социальными вызовами, и как громкие процессы формировали общественное мнение и дальнейшую судебную практику. В данной статье речь пойдет о знаменитых делах по защите прав великих русских композиторов.
В истории российского авторского права имя Дмитрия Васильевича Стасова занимает особое место. Этот выдающийся юрист, брат знаменитого критика Владимира Стасова, в 1860-1870-х годах провел несколько судебных процессов, которые кардинально изменили понимание авторских прав композиторов в России и стали заметной частью складывавшейся судебной практики разграничения прав издания и публичного исполнения на фоне уже действовавшего с 1857 года 50-летнего срока охраны и последующих реформ театральной сферы 1882 года (которые не устанавливали новый срок, но изменили организационно-рыночную среду).
Середина XIX века в России была временем правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности. Российские законы об авторском праве находились в зачаточном состоянии, что создавало благодатную почву для злоупотреблений со стороны недобросовестных издателей. Особенно страдали композиторы, чьи произведения часто становились объектом спекуляций и незаконного присвоения прав. В этих условиях фигура издателя Федора Тимофеевича Стелловского стала символом всего того безобразия, с которым приходилось сталкиваться творческим людям.
Современники характеризовали Стелловского как «грубого, невежественного купца», который «едва умел подписывать свое имя». Этот человек, «пользуясь неразработанностью российских законов об авторском праве и стремясь урвать выгоду всюду, где это возможно», систематически пытался узурпировать законные права композиторов. Его методы были циничны и жестоки: он заключал кабальные договоры, а затем через суд требовал исполнения обязательств, которые сам же грубо нарушал.
Первым крупным делом, в котором Стасову пришлось столкнуться с этим «любителем судебных тяжб», стал процесс по защите прав Людмилы Ивановны Шестаковой, сестры великого Михаила Ивановича Глинки. История этого дела началась с того, что Шестакова, не разбираясь в тонкостях авторского права, совершила роковую ошибку. Как впоследствии выяснила дочь Стасова, сестра композитора за 25 рублей продала Стелловскому право на издание всех неизданных и никому не проданных произведений Глинки, и, кроме того, еще обещалась выплатить ему 1000 рублей, с тем, чтобы Стелловский в течение четырех лет издал партитуры двух опер.
Сама Шестакова вспоминала об этих событиях с горечью: «Я просила Д. В. Стасова сделать договор с Стелловским (ему тогда принадлежали почти все сочинения Глинки), хотя бы на выгодных для меня условиях, чтобы он позволил мне издать партитуры обеих опер брата. Стелловский согласился на словах, но потом отказался, и даже начал против меня процесс». Циничность издателя проявилась в полной мере: ничего не выполнив из своих обязательств в течение пяти лет, он «в мае 1866 г. подал прошение в Управу благочиния и в Гражданскую палату о взыскании неустойки с Шестаковой», утверждая, что она, якобы, «обязалась доставить ему оригиналы всех сочинений Глинки».
Возмущение этим наглым поступком охватило весь круг прогрессивной музыкальной общественности. Милий Алексеевич Балакирев, руководитель «Могучей кучки», обратился к Стасову с отчаянной просьбой: «Напрягите Ваши адвокатские способности. Из прилагаемого письма Стелловского увидите все. Боже мой! Как это такие подлецы родятся на свет». В другом письме он подчеркивал свою личную ответственность за ситуацию: «условия со Стелловским заключал не Вильбут, а я».
Стасов принял вызов. В сентябре 1866 года он, как поверенный Шестаковой, предъявил в недавно открывшийся Окружной суд встречный иск, требуя «взыскать неустойку со Стелловского, как не выполнившего своих обязательств». Началась длительная судебная эпопея, которая продолжалась до конца 1869 года. Как с юмором заметила дочь адвоката, «то там, то здесь Стелловский проигрывал дело, и одновременно, то там, то здесь предъявлял все новые требования, пока министр юстиции по Высочайшему повелению не передал дело на рассмотрение в Сенат, где незадачливый купец-издатель потерпел поражение».
Однако борьба со Стелловским на этом не закончилась. В 1868 году алчный издатель затеял новый процесс, на этот раз против Александра Сергеевича Даргомыжского, автора знаменитой оперы «Русалка». Композитор еще в 1858 году продал Стелловскому право на издание некоторых своих произведений, включая эту оперу, а тот через десять лет предъявил иск, требуя взыскать с Даргомыжского «всю полученную им за эти годы поспектабельную плату за предоставление «Русалки» в сумме 5338 рубл. 67 коп.».
Однако этот процесс оказался гораздо сложнее предыдущего, поскольку против Стасова выступал очень серьезный противник – присяжный поверенный В. И. Танеев, старший брат композитора Сергея Ивановича Танеева, прекрасно разбирающийся в тонкостях музыкального права.
Танеев, как доверенный Стелловского, потребовал «признать определенно, что право публичного исполнения входит в состав музыкальной собственности», против чего решительно выступил Стасов. Он объяснял, что «по условию доверитель его продал Стелловскому только право издания оперы «Русалка», но никаких других прав, а тем более авторского права, не передавал».
Именно на этом процессе Стасов поднял принципиальный вопрос об авторском праве как таковом. Это было революционное решение для российской юридической практики того времени. В качестве доказательств он привел мнения видных зарубежных юристов, а также представил необходимые сведения из переписки графа Дмитрия Николаевича Блудова, управляющего II Отделением, который в свое время, в 1841 году, разрабатывал закон о музыкальной собственности.
Стасов сумел убедительно доказать, что российское право того периода не предусматривало автоматического перехода всех авторских прав при продаже права на издание. Его аргументация была настолько убедительной, что все судебные инстанции, в которых слушалось дело – Окружной суд, Судебная палата и Сенат – признали эти толкования правильными и приняли решение: «Стелловскому в иске отказать, возложив на него все судебные издержки».
Победы Стасова в этих «музыкальных» процессах имели далеко идущие последствия для развития российского авторского права. Блестяще выигранные им дела послужили важным прецедентом, на который ссылались при решении подобных вопросов в судах. Фактически Стасов создал правовую базу для защиты авторских прав композиторов, которая до того времени практически отсутствовала в российском законодательстве.
Третий крупный процесс, в котором участвовал Стасов, касался защиты прав Петра Ильича Чайковского и издателя П. И. Юргенсона против Н. И. Бахметева в период с 1879 по 1881 год. Хотя детали этого дела менее известны, оно также внесло свой вклад в формирование правовой практики защиты авторских прав в музыкальной сфере.
Деятельность Стасова как защитника прав композиторов была особенно важна в контексте общественных настроений того времени. Эпоха Великих реформ Александра II способствовала росту правосознания в российском обществе, и борьба за справедливость в сфере интеллектуальной собственности стала частью более широкого движения за правовое государство и защиту прав личности.
Стасов прекрасно понимал, что его борьба носит не только частный, но и принципиальный характер. Он защищал не только конкретных композиторов от конкретного мошенника, но и само право творческих людей на справедливое вознаграждение за свой труд. В условиях, когда российская культура переживала период расцвета, а русская музыка завоевывала международное признание, защита авторских прав композиторов приобретала особое значение.
Влияние процессов, выигранных Стасовым, распространялось далеко за пределы конкретных судебных решений. Они способствовали формированию правовой культуры в музыкальной среде, заставили издателей более ответственно относиться к заключению договоров с авторами, а композиторов – более внимательно изучать свои права и обязанности.
Личность самого Стасова как юриста и общественного деятеля заслуживает особого внимания. Будучи образованным человеком и тонким ценителем искусства, он прекрасно понимал специфику творческого труда и те проблемы, с которыми сталкивались композиторы в своей профессиональной деятельности. Его дружеские связи с ведущими представителями музыкального мира того времени позволяли ему не только юридически, но и психологически поддерживать своих подзащитных в трудные моменты.
Стасов продемонстрировал, что эффективная защита авторских прав требует не только глубокого знания права, но и понимания специфики творческой деятельности. Его подход к ведению дел был комплексным: он не ограничивался формальным исполнением процедур, но стремился создать прецеденты, которые служили бы защите прав всех композиторов в будущем.
Значение деятельности Стасова для развития российской музыкальной культуры трудно переоценить. В эпоху, когда творили Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, защита их авторских прав была не просто юридической, но и культурной необходимостью. Стасов обеспечил правовую основу для того, чтобы русские композиторы могли сосредоточиться на творчестве, не опасаясь за свои законные интересы.
Таким образом, Дмитрий Васильевич Стасов вошел в историю не только как выдающийся юрист, но и как один из основоположников современного российского авторского права. Его борьба против произвола Стелловского и других недобросовестных издателей заложила правовые основы для защиты интеллектуальной собственности в России и способствовала созданию цивилизованных отношений между авторами и издателями. Процессы, выигранные Стасовым, стали важным этапом в формировании правового государства и защиты прав творческих людей в российском обществе второй половины XIX века.
Андрей Кирхин
*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
*Стилистика, орфография и пунктуация публикации сохранены