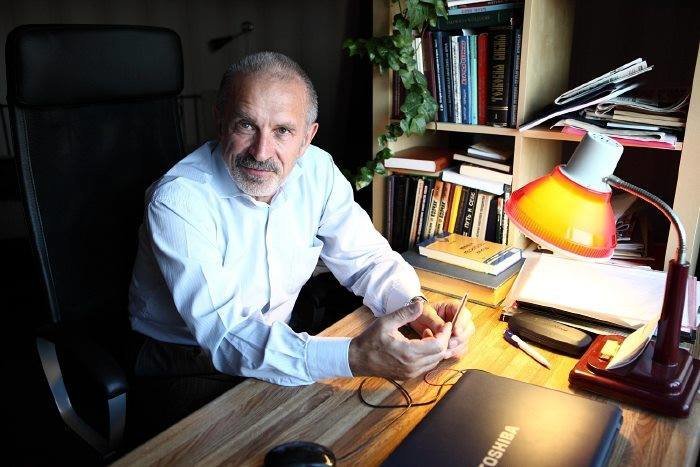Большая работа по кодификации права сразу после окончания гражданской войны в Советской России объясняется как большим объемом правовых пробелов, так и резким поворотом государственного курса в связи с принятием новой экономической политики. О том, как формировался фундамент советского законодательства рассказывает в сто четырнадцатом материале своего тематического цикла юрист, кандидат исторических наук, депутат Государственной Думы первого созыва Александр Минжуренко.
В 1922-1923 годах в Советской России были приняты и вступили в действие семь кодексов: Уголовный, Гражданский, Кодекс законов о труде, Земельный, Уголовно-процессуальный и Лесной кодексы.
В гражданском праве декларировалось право граждан на свободу передвижения и поселения на всей территории страны, свободного выбора не воспрещённых законом занятий, приобретения и отчуждения имущества, совершения сделок, организации промышленных и торговых предприятий.
Отдельные статьи кодекса устанавливали неправовые категории, так, например, статья 1 «О применении гражданского законодательства на практике» устанавливала порядок защиты имущественных прав только в случае их соответствия «социально-хозяйственному назначению». Отсутствие в этом случае четких правовых норм давало судьям большой простор для широкого и произвольного толкования закона.
Законом допускалась частная собственность в трех формах: единоличная собственность физических лиц, собственность нескольких лиц, не составляющих объединения (например, семейная), и собственность частных юридических лиц (компаний, акционерных обществ).
Однако объем и размеры права частной собственности строго ограничивались. Так, определялся круг объектов, допускаемых в частную собственность, устанавливались предельные размеры частного предприятия и наследственной массы, получаемой частным лицом и т.п.
Ограничивалось также право частного собственника распоряжаться своей собственностью. Например, даже в случае разрешенной законом собственности на жилье, ограничивались возможности сдачи его внаем введением нормы жилой площади, тарифов сдаточных цен, сроков сдачи.
Кроме того, в статье 58 ГК был введен специальный термин - «обладание», означавший, что предмет, находящийся в частной собственности, не может быть включен в гражданский оборот. Его нельзя было ни продать, ни купить.
Норма, определяющая условия заключения договора, имела ярко выраженную социальную направленность. Закон признавал договор недействительным, если он заключался одной из сторон под влиянием «крайней нужды» и на невыгодных для нее условиях. Договор мог быть расторгнут не только по инициативе сторон, но и по инициативе госорганов или общественных организаций.
Одной из особенностей обязательственного права стало применение статей Уголовного кодекса в качестве санкций за нарушение гражданских договорных отношений.
Составной частью Земельного кодекса стал закон «О трудовом землепользовании». Кодекс навсегда отменял право частной собственности на землю. Все земли сельскохозяйственного назначения составляли единый государственный земельный фонд и находились в ведении Наркомзема и его органов на местах.
Право пользования землей предоставлялось «трудовым земледельцам» и их объединениям, а также городским поселениям, государственным учреждениям и предприятиям. Покупка, продажа, завещание, дарение, залог земли категорически запрещались, а нарушители этих положений подвергались уголовным наказаниям.
Сдача земли в аренду допускалась на срок не более одного севооборота. Но разрешалась только «трудовая аренда»: никто не мог получить по договору аренды в свое пользование земли «больше того количества, какое он в состоянии дополнительно к своему наделу обработать силами своего хозяйства».
Но в то же время наемный труд в сельском хозяйстве власти разрешили использовать, однако только при определенных условиях. Очень подробно законодатель описал их. Использование наемного труда допускалось лишь «при непременном сохранении применяющим его хозяйством своего трудового строя, т.е. при условии, если все наличные трудоспособные члены хозяйства наравне с наемными рабочими принимают участие в работе хозяйства» и при условии невозможности хозяйства самому выполнить эту работу.
Таким образом и здесь прослеживается социальная направленность советского законодательства, исходящая из положений Конституции 1918 года, где говорится о том, что основной задачей советского государства является «уничтожение всякой эксплуатации человека человеком» и в ней же закреплен принцип «Не трудящийся да не ест!»
В Кодексе законов о труде 1922 года предусматривались в качестве основных правовых норм привлечения к труду коллективный и трудовой договоры. Предоставление работы гражданам осуществлялось через органы Наркомтруда, т.е. обязательными посредниками здесь выступали биржи труда.
Стороной, заключающей коллективный договор с работодателем, выступали профсоюзы. Размер вознаграждения за труд не мог быть меньше обязательного минимума оплаты, установленной для данной категории труда государством. Вводилось социальное страхование по болезни, беременности, инвалидности и т. п.
В КЗоТ особое внимание обращалось на выявление фиктивных кооперативных объединений. Под этой вывеской нередко действовали частные фирмы в целях получения налоговых льгот.
Политизированные формулировки норм права присутствуют и в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года. Так, под преступлением понималось «всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени».
Если в Кодексе отсутствовало прямое указание на какие-либо конкретные виды преступлений, то законодатель предлагал использовать принцип аналогии, отыскивая в законе «наиболее сходные по важности и роду преступления». Это опять-таки давало судьям возможности широкого толкования законов. Тем более, что в законе предписывалось определять наказание исходя из принципа его «целесообразности».
В перечень видов наказаний были включены разные меры от «общественного порицания» до изгнания за пределы РСФСР. УК особо выделял группу преступлений, направленных «против социальных устоев, установленных советской властью». Для таких преступлений закон не допускал послаблений, определив по ним твердый минимум наказаний.
С введением НЭПа пришлось переквалифицировать некоторые составы преступлений. Так, если ранее всякая частная торговля определялась как спекуляция, то в этом кодексе под спекуляцией понимались сговор с целью повышения цен, «злостный невыпуск товаров на рынок», а также скупка и сбыт запрещенных к продаже товаров.
Как в уголовном, так и в гражданском процессе действовал только кассационный порядок пересмотра судебных решений.
Таким образом, все новые законодательные акты РСФСР нормативно закрепляли классовую политику советской власти, примат государства над личностью.
Продолжение читайте на сайте 4 февраля