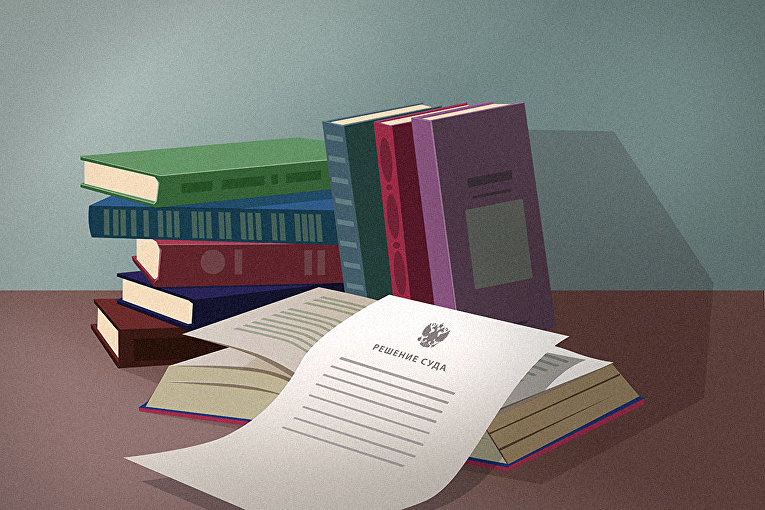РАПСИ в этом году начало серию публикаций о наиболее громких судебных процессах в истории Российской империи. В каждой статье будет рассматриваться конкретное дело, цель — показать, как правовая система дореволюционной России сталкивалась с культурными, политическими и социальными вызовами, и как громкие процессы формировали общественное мнение и дальнейшую судебную практику. В данной статье речь пойдёт о суде над одним из самых известных отечественных предпринимателей и благотворителей Савве Мамонтове.
Судебное дело Саввы Ивановича Мамонтова в Российской империи в конце XIX – начале XX века считают ярким примером столкновения предпринимательской инициативы и государственной консервативной финансово-правовой системы, а также важным эпизодом в истории российского правосудия, в котором сплелись интересы капиталовложений, искусства и общественного мнения. Мамонтов, потомственный почётный гражданин и коммерции советник, к тому времени уже был весьма заметной фигурой не только в предпринимательском мире, но и в художественных кругах: в его имении Абрамцево собирались многие таланты — художники, музыканты, актёры. Казалось бы, уважаемый меценат, внесший значительный вклад в поддержку искусства, мало у кого мог ассоциироваться с уголовным преследованием. Однако стремительное расширение деловых проектов Мамонтова, связанное с арендой Невского механического завода, покупкой металлургических предприятий и организацией крупных займов, обернулось масштабной финансовой неустойчивостью. Именно это и стало причиной возбуждения дела о «крупных растратах и злоупотреблениях».
По свидетельству ряда газет того времени («Русские ведомости», «Новое время») и некоторых архивных материалов (Государственный исторический архив (ГИА), ф. 1239, оп. 1, д. 4567; Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 1005, оп. 1, д. 2125), в сентябре 1899 года Мамонтова арестовали, обвинив в незаконных финансовых операциях, вследствие которых в кассе Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги образовалась значительная недостача. Многие современники, и уж тем более потомки, привыкли воспринимать Мамонтова как человека искусства и культуры. Однако, в первую очередь он был предпринимателем, интересы которого в конце XIX века простирались на одно из самых выгодных направлений — строительство и эксплуатацию железных дорог.
В Российской империи бурное развитие железнодорожной сети началось ещё в середине века: первая дорога — Царскосельская — появилась в 1837 году, а к концу столетия протяжённость магистралей росла с каждым годом. Железнодорожные компании того времени часто получали существенную господдержку и пользовались благосклонностью многих крупных банков. Семья Мамонтовых (отец Саввы, Иван Мамонтов) финансировала прокладку ветки к Сергиеву Посаду, участвовала в делах Общества Московско-Ярославской железной дороги, а позже под руководством Саввы довела пути до Архангельска. По историческим сведениям, дорога протяжённостью почти 600 вёрст была построена примерно за три с половиной года и сдана в 1897-м, что тогда считалось рекордно быстрым сроком. Кроме этого, к 1900 году Общество Московско-Ярославской (или Московско-Ярославско-Архангельской) дороги контролировало более 200 паровозов, тысячи товарных вагонов и сотни пассажирских. Доходы исчислялись многими миллионами рублей в год, а инвесторы воспринимали предприятие как весьма доходное.
Однако столь быстрое расширение требовало серьёзной финансовой «подушки» — в частности, наличия своего банка или стабильного доступа к банковским кредитам. У Мамонтова собственного банка не было. Вместо этого он пошёл путём выпуска облигаций, залога собственности и попыток оснастить весь железнодорожный комплекс собственными заводами: так, Невский механический завод, арендованный у государства, планировалось переоборудовать, модернизировать и наладить там выпуск паровозов и вагонов. В условиях, когда отрасль динамично росла и казалась перспективной, предприниматель считал, что временные финансовые трудности вскоре удастся покрыть доходами от будущего прироста перевозок. Но на практике заводу не хватало оборотных средств, долги росли, а полученные Мамонтовым из банков кредиты стали требовать к срочному возврату. Как указывается в некоторых исследованиях, Сергей Витте (министр финансов) поначалу с интересом относился к таким промышленным проектам, однако в итоге — или из-за политических интриг, или из-за сомнений в финансовой стабильности концерна — не оказал необходимой поддержки (по крайней мере, в том объёме, на который рассчитывал Мамонтов).
Накопившаяся недостача в кассе Московско-Ярославско-Архангельской дороги (в «Судебной драме» упоминается сумма почти в 9 миллионов рублей) формально подпадала под признаки растраты, поскольку деньги, предназначенные для нужд железной дороги, фактически были «перенаправлены» на спасение Невского завода. С позиции закона подобный шаг выглядел недопустимым. В сентябре 1899 года Савву Ивановича арестовали, предъявив обвинения в незаконных сделках и злоупотреблениях. К тому времени его финансовое положение стало катастрофическим: за шесть месяцев, проведённых в заключении, он не смог внести сумму залога в 5 миллионов рублей, а при обыске обнаружились лишь незначительные денежные средства. По свидетельствам авторов «Судебной драмы», у Мамонтова при аресте оказались всего 53 рубля с копейками да 100 немецких марок, а в кармане — заряженный револьвер и записка о намерении свести счёты с жизнью.
О том, что многие люди того времени сочувствовали Мамонтову, сохранилось несколько свидетельств в виде писем и воспоминаний. В частности, приводятся слова Константина Коровина: «Я приехал в Петербург и увидел Сергея Юльевича Витте, который был министром. Сергей Юльевич, к моему удивлению, сказал мне, что он тоже не знает акта обвинения Мамонтова. — Я знаю, что Мамонтов честный человек, и в этом совершенно уверен».
Известно, что судебный процесс (или «судебная драма», как его называли в ряде газет) открылся 23 июня 1900 года (по старому стилю) в Митрофаньевском зале Московского окружного суда. На скамье подсудимых оказались не только Савва Мамонтов, но и его брат Николай (тоже потомственный почётный гражданин), а также двое сыновей Саввы — Сергей и Всеволод, дворянин Константин Арцыбушев и почётный гражданин Михаил Кривошеин. Их всех обвиняли, согласно официальной формулировке, в «крупных растратах и многочисленных злоупотреблениях». В упомянутой «Судебной драме» говорится, что в самом начале заседаний за железной решёткой расположились Мамонтов с жандармским офицером и Арцыбушев с Кривошеиным, которых сопровождали жандармы с саблями наголо, — сцена, подчёркивавшая суровость разбирательства. В публике ходили домыслы, что дело станет показательным судом над «финансовыми махинациями», а возможно, и над излишне самостоятельными (по меркам того времени) капиталистами.
Однако главная проблема, как отмечал позже товарищ прокурора Павел Курлов и (в других записях) сам прокурор Алексей Лопухин, состояла в том, что существовавшие на тот момент финансово-правовые нормы далеко не идеально регламентировали деятельность подобных железнодорожных обществ с разветвлённой структурой филиалов и дочерних предприятий. Лопухин в итоге вообще отказался поддерживать обвинение, пояснив, что «злоупотребления его были очевидны, но сделаны они были в результате ошибок в предпринимательской деятельности — Мамонтовы не положили эти деньги себе в карман». Уже после процесса он напишет: «Защищать нравственность их поступков, конечно, было невозможно, но и выбор министерством финансов именно их в качестве дани правосудию казался непонятным». В то же время Курлов, выступавший в роли государственного обвинителя, настаивал, что недостача в кассе и нарушение условий кредитных обязательств нельзя оправдать одними только «ошибками».
На суде развернулась впечатляющая по составу защитников картина: Савву Мамонтова представлял знаменитый адвокат Фёдор Никифорович Плевако, его сыновей — Михаил Багриновский, брата Николая — Василий Маклаков, Константина Арцыбушева — Николай Карабчевский (иногда в литературе называется «вторым по значимости адвокатом после Плевако»), а Михаила Кривошеина — Николай Шубинский. Председательствовал на процессе глава Московского окружного суда Николай Давыдов. Считается, что именно благодаря мастерству Плевако и других защитников дело получило столь большой общественный резонанс. Публика жаждала услышать острые дебаты, а пресса в деталях описывала поведение подсудимых, присяжных и адвокатов.
Суд длился около недели (с 23 по 31 июня по старому стилю). Кроме самих подсудимых и защитников, выступал инженер и писатель Николай Гарин-Михайловский, объяснявший, что именно он ходатайствовал перед Витте о помощи Невскому заводу, но получил отказ. В материалах процесса Гарин-Михайловский характеризовал Мамонтова как «человека, которому сулили все перспективы, кроме этой», и добавлял: «Этого Савва Иванович не заслужил». Подобное отношение к Мамонтову было, пожалуй, наиболее типичным среди тех, кто видел в нём крупного патриота промышленного дела, мецената и личность глубокую, хотя и чересчур беспечную в бухгалтерских вопросах.
Плевако подчёркивал «отсутствие прямого криминального умысла» и обвинил «неблагодарных» вкладчиков в стремлении «превратить предпринимателя в преступника» лишь тогда, когда ситуация вышла из-под контроля.
В конечном счёте, присяжные, заслушав обвинение и изучив объемистую документацию, склонились к тому, что Мамонтов не имел корыстного умысла, а потому не подлежит осуждению по уголовным статьям за растрату. В результате 31 июня 1900 года (по старому стилю) ему и другим фигурантам дела был вынесен оправдательный вердикт. Любопытно, что именно такой исход ожидали далеко не все в обществе — многие думали, что дело завершится осуждением «по всей строгости закона». Однако, как и писал Лопухин, «защищать нравственность их поступков было невозможно, но представить намеренное воровство в свою пользу тоже не представлялось доказанным».
Оправдательный приговор формально спас Мамонтова от уголовного наказания, но не от последствий финансовой катастрофы. Все его активы пришлось отдать для покрытия долгов, семья потеряла значительную часть имущества, а возможность заново запустить производство или продолжать меценатство уже не представилась. Мало того, деловая репутация предпринимателя оказалась подорванной окончательно: если даже суд принял сторону защиты, банки и инвесторы больше не хотели иметь с ним дело. Многие историки и современники соглашались, что это было типичным примером «банкротства» крупного капиталиста, столкнувшегося с несовершенной законодательной базой и неудачно опиравшегося на государственные гарантии. Известна также версия, что Мамонтов стал разменной монетой в неких политических играх, когда министры юстиции и финансов могли использовать громкий процесс для своих аппаратных целей.
Так или иначе, в общественной памяти Савва Мамонтов остался скорее в ореоле «мецената и покровителя искусств»: Абрамцевский художественный кружок, знаменитая частная опера, поддержка Валентина Серова, Константина Коровина, Михаила Врубеля и многих других творцов принесли ему несравненно более «человеческую» славу, чем факты о банковских махинациях. И даже спустя годы после оправдания, несмотря на полное разорение, в кругах интеллигенции вспоминали, что Мамонтов «дал дорогу» множеству талантливых людей. Официальная историография советского периода (особенно 1920–1930-е годы), напротив, видела в истории Мамонтова типичный пример кризиса капиталистического хозяйствования, более интересуясь разоблачениями «эксплуатации» и финансовых провалов. Уже к концу XX века более взвешенные исследования стали выявлять сложность ситуации: с одной стороны, налицо небрежение законом и учётными нормами, с другой — весьма прогрессивная попытка создать вертикально интегрированный промышленный комплекс, который обеспечивал бы Россию собственными локомотивами и вагонами.
Итоги судебного дела достаточно хорошо задокументированы. Присяжные вынесли оправдательный вердикт, сочтя, что Мамонтов, его брат, сыновья и остальные подсудимые не имели прямой цели обогатиться, а действовали в процессе предпринимательских попыток спасти Невский завод, хотя при этом и нарушали действовавшие правила ведения бухгалтерии и распределения средств. Однако оправдание в суде не вернуло Мамонтову былого положения, ибо к моменту вынесения приговора вся его бизнес-империя уже находилась в состоянии крушения. Отчасти именно «личная драма» этого человека — от крупного магната и мецената до человека, не имеющего средств даже на залог — сильнее всего волновала умы современников. Они видели в этом не только индивидуальную трагедию, но и символ противоречий эпохи. Одновременно сама Империя находилась в стадии ускоренной модернизации, ещё не располагая полноценным финансовым и юридическим инструментарием для регулирования сложных холдинговых структур, подобных той, которую пытался выстроить Мамонтов.
С годами в публицистике возникло множество версий о подоплёке дела: от намеренной «сдачи» Мамонтова министром финансов Сергеем Витте, попавшим под политическое давление министра юстиции Николая Муравьёва, до версий о личных просчётах самого предпринимателя. Архивные находки, появляющиеся и по сей день, частично проясняют эти обстоятельства, но полностью не исключают вероятности закулисных манёвров. Сохранившаяся документация (включая те самые договоры аренды завода, финансовую отчётность и иные бумаги, рассеянные по фондам ГИМ, ГАРФ и ГИА) подтверждает, что масштабные попытки Мамонтова «удержаться на плаву» действительно были, но в условиях паники на рынке кредитов и колебаний в правительственных кругах он оказался без опоры. Зато сама общественная реакция, резкое внимание прессы (местами обвинявшей его в «авантюрных сделках», а местами прославлявшей его как «жертву системы») создали из «дела Мамонтова» уникальный прецедент, когда на судебном процессе столкнулись разные взгляды на роль крупного предпринимательства в стране.
Итоговое отношение к Савве Мамонтову в исторической литературе стало двойственным. Если в советской историографии его зачастую писали как пример буржуазного расцвета и закономерного краха, то позднее, начиная уже с конца 1980-х, авторы всё чаще подчеркивали его заслуги перед российской культурой, отмечая, что именно в его «Абрамцевском кружке» сформировались ключевые направления отечественного искусства рубежа столетий. События же 1899–1900 годов, при всём их драматизме, стали лишь эпизодом в большой биографии предпринимателя, хотя, конечно, этот эпизод окончательно лишил его деловых возможностей. Личная жизнь Мамонтова претерпела сильнейший удар, и, как пишут мемуаристы, даже после оправдания он уже не имел прежнего душевного энтузиазма.
Однако легенда о «великодушном покровителе, попавшем под гнёт безжалостной системы», продолжала жить, чему немало способствовали и те самые «воспоминания с цитатами» (часть из которых точна лишь приблизительно), которые впоследствии охотно перепечатывались биографами. Точно известно, что адвокаты, в том числе Плевако, защищали Мамонтова, апеллируя к отсутствию личной наживы и указывая, что тот, скорее, «перестарался» в своём желании сохранить все промышленные объекты. Официальных, буквально записанных выдержек из выступлений немного, и большая их часть не содержит громких афористичных оборотов. Однако эмоциональная насыщенность их речей, о которой свидетельствовали очевидцы, породила множество последующих пересказов и «реконструкций» их выступлений.
Таким образом, «дело Мамонтова», с учётом сложностей его финансовых операций и слабого развития правовых норм того времени, стало характерным примером, показывающим, как легко в пору бурного капиталистического подъёма перейти зыбкую грань между законной коммерческой деятельностью и обвинением в растрате. В более широком контексте это и история о политических отношениях в правительстве, и о коллизии нового типа промышленника с имперским бюрократическим аппаратом, и, наконец, пример того, как в обществе (особенно среди культурной интеллигенции) могут преобладать личные симпатии к «творческой» стороне жизни предпринимателя над его экономическими промахами. До сих пор в популярной литературе, а также на страницах различных статей нередко приводятся цитаты Плевако, Коровина, Серова, Витте, которые не подтверждаются пунктуально архивными документами, но отражают общий настрой эпохи и реальное сочувствие к «сложной судьбе» Мамонтова.
Итог судебного процесса остаётся одним из примеров, когда громкое обвинение в «крупном хищении» закончилось оправданием, но в то же время разрушило всю предпринимательскую империю фигуранта. Мамонтов ушёл из дел, пережил колоссальное моральное потрясение, но сохранил навсегда репутацию мецената в глазах русских художников, музыкантов и оперных певцов, многие из которых обязаны ему своим взлётом.
Так или иначе, «дело Мамонтова» заслуживает того, чтобы оставаться заметным сюжетным узлом в истории российской модернизации конца XIX — начала XX столетия. Читая отчёты о суде, письма современников, анализируя официальные постановления и воспоминания об атмосфере тех дней, мы видим, как юридические нормы, банковская система и государственная политика ещё не были готовы к возникновению таких гигантских предпринимательских объединений, какими руководил Савва Иванович. И всё же он вошёл в историю не только как крупный бизнесмен со спорной бухгалтерией, а прежде всего как человек, чьё имя тесно связано с расцветом искусства в Абрамцеве. Возможно, именно поэтому многие и поныне ищут в судебных стенограммах яркие слова Плевако и свидетельства близких к Мамонтову лиц — чтобы окончательно разобраться в феномене личности, которая добровольно «перенаправляла финансовые потоки на благо бизнеса», искусства и, в конечном итоге, России, но потерпела крах, когда ситуация вышла из-под контроля. В какой-то мере такая судьба и сделала Мамонтова легендарной фигурой, чьи «цитаты», подлинные или полулитературные, продолжают волновать исследователей и любителей русского искусства по сей день.
Андрей Кирхин
*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
*Стилистика, орфография и пунктуация публикации сохранены